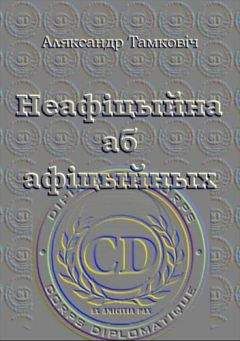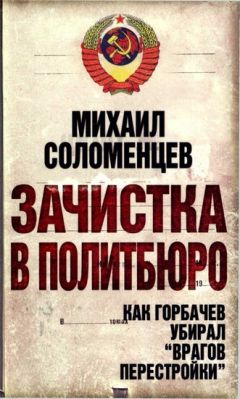Петр Евдокимович настроился отказаться от директорства. Он давно собирался написать заявление в районо, но духу не хватало, все откладывал. Однако этим летом надо решить окончательно, и сделать это в июне, чтобы к новому учебному году назначили нового директора. Он предложит на свое место Любу Ровнягину, Любовь Дмитриевну. Она теперь завуч, освоилась с этой должностью, институт окончила, знает людей, и ее все знают, и родом она из соседней деревни. Лучшей замены не найти, из Могилева, тем более — Минска никто в эту глушь не поедет.
Вот достанут мед, посоветуется с Юлей, с Иваном, зятем, вместе с ними поедет в райцентр. Откладывать дальше нет смысла, если каждый день об этом думать, сомневаться, колебаться, то можно свихнуться. Попросит, чтобы дали вести уроки истории, а не дадут, сильно жалеть не будет. Ему уже шестьдесят три, наработался, у него есть хозяйство, пасека — это любимое занятие. Есть к чему руки приложить.
А зимой можно и внучат навестить. Катануть в Могилев, потом в Минск. Татьяне скажет, что Юзя, минская присуха, давно замужем. Татьяна частенько ездит в Минск к дочери, а его всячески отговаривает. Дочь обижается на отца: почему не приезжаешь? Может, и она знает, что у нее есть брат по отцу?
Кажется, так просто написать короткое заявление: прошу освободить от занимаемой должности… в связи с выходом на пенсию… Всего пару строк, но рука не поднимается их начертать, глаза становятся влажными, сердце начинает болеть. Наконец Петр Евдокимович настрочил заяву, хотя и рука дрожала, повез в районо. Там никто не отговаривал, да и заведующего не было на месте — уехал в отпуск. Инспектор, молодая женщина, Мамута мало ее знал, спросила, кто может его заменить.
— Замену я подготовил. Это Ровнягина Любовь Дмитриевна. Завуч нашей школы, которую она кончала в свое время. Диплом пединститута имеет. Семья хорошая. Отец бригадиром в Вишнях работает. Правда, когда-то в чарку заглядывал, теперь завязал. Дочь перевоспитала.
— Наверное, лимит выбрал, — улыбнулась скептически бухгалтерша, сидевшая за соседним столом. — Фонд выбрал, потому и завязал. Перевоспитать пьяницу вряд ли можно. Правда, если сильно захочет…
— Может быть, вы и правы. Во всяком случае, Любови Дмитриевне это удалось. Она будет хорошим руководителем. Умеет ладить и с коллегами, и с родителями детей. Она всех знает, — убеждал Мамута инспектора. — А новый человек… Да и кто поедет в нашу глушь…
— Ну почему глушь? — не согласилась инспектор. — Из вашей школы столько известных людей вышло! Шандобыла Николай Артемович — ваш выпускник? Власть районная.
— Наш, — с гордостью ответил Мамута. — А в Могилеве, Минске наших сколько! Моховиков Петро вон по телевизору выступает. Главный редактор. Сахута Андрей — первый секретарь райкома партии в столице. Так что передайте заведующему мое заявление. Ну, и о моей кандидатке на должность директора скажите. И еще есть просьба. Разрешите мне вести уроки истории.
— Хорошо. Думаю, мы учтем ваше предложение. Удовлетворим и вашу просьбу, — заверила его инспектор.
«Наверное, она имеет влияние на заведующего. Раз так уверенно обещает», — подумал Мамута. А еще мелькнуло в голове: Было бы лучше, если б она сказала: «Что вы, Петр Евдокимович? Вы такой опытный руководитель. Поработайте еще». Ну, хотя бы для приличия поуговаривала. Я бы отказался, раз уже решил твердо, но было бы приятно. Да хоть бы спасибо сказала. А то — удовлетворим просьбу. Возможно, заведующий вел бы себя иначе. Хотя и он не так давно в районе, кадры знает слабо. А может, он не подпишет заявление? Мол, рано ты, Мамута, собрался в обоз. Ты еще нужен. Поживем — увидим.
Вышел из районо Петр Евдокимович с каким-то неизведанным раньше чувством: вроде можно вздохнуть с облегчением — не надо думать о ремонте школы, о заготовке дров, подбирать кадры, ездить в район на совещания, а с другой стороны, будто заноза, в голове засела мысль: ты уже никому не нужен, отработал свое, сиди на диване у телевизора. Уроки истории могут дать, а могут сказать: все, хватит, отдыхай, Мамута.
Почему-то всплыло в памяти воспоминание: поздней осенью сорок третьего проводилось первое совещание директоров школ в райкоме. Он опоздал, шел пешком по грязи двадцать километров в лаптях, другой обуви не было. Вошел в небольшой зал парткабинета, прошагал мокрыми лаптями до свободного места в первом ряду. Потом секретарь райкома Дарья Азарова попросила его остаться, расспросила о делах в деревне, помогла приобрести хромовые сапоги…
До автобуса оставалось еще больше двух часов, Петр Евдокимович неторопливо направился в сторону раймага, купить Татьяне гостинцев, потом перекусить в столовой, выехал из дома рано. Людей на улицах райцентра было мало. Местные жители почти все были знакомы между собой, приезжие сельчане тоже часто встречали здесь знакомых. Навстречу шла седая женщина с черной матерчатой сумкой, на которой был вышит большой красный цветок. Поравнялись, она остановилась, внимательно присмотрелась:
— Мамута? Это вы или я ошиблась?
— Я, Дарья Трофимовна, — узнал он в этой седой бабушке Азарову. — Как вы поживаете? Давно не виделись.
— Да пожалуй, лет десять. Столько уже я не работаю. А вы?
— Ой, не спрашивайте, Дарья Трофимовна. Вот отнес заявление в районо. Прошусь в отставку. Три года после пенсии отработал. Заботы директорские плешь проели. Уроки истории хочу вести. Если дадут. Между прочим, хотите — верьте, хотите — нет, но я только что вспоминал вас. Ну, то совещание в сорок третьем году. Когда я в лаптиках притопал…
— О, Петр Евдокимович, так и я это помню. Что было тогда, помню, как сейчас. А что вчера, того не помню. Вы, может, торопитесь куда? Я вас не задерживаю?
— Нет, у меня еще два часа до автобуса.
— Так, может, присядем в скверике? Поговорим.
Мамута понимал, что живется ей невесело и не всегда есть с кем перемолвиться словом. И он не ошибался. Живет Азарова одна. Сын в Могилеве. Летом приезжают внуки, иногда заходят бывшие выпускники — она двадцать лет отработала директором школы.
Петр Евдокимович внимательно слушал и никак не мог поверить, что эта седая, усохшая женщина в очках, со сморщенным, как печеное яблоко, лицом — та самая красавица, полногрудая женщина, с гладко причесанными темными волосами, в гимнастерке, туго перетянутой широким командирским ремнем. Тогда говорили, что в нее был влюблен первый секретарь райкома партии Акопян. Затем стали говорить, что у нее роман с Макаром Казакевичем, хатыничским председателем колхоза, что за это ее сняли с должности секретаря по идеологии и назначили директором школы, а Казакевичу, одноногому инвалиду-фронтовику, дали выговор. Выговор за любовь, мол, у тебя семья, жена, дети, а она, Азарова, хотя и одинокая вдова, не имеет права любить женатого.
— Неизвестно, сколько той жизни осталось. Хочу к вам в Хатыничи съездить. Поклониться могиле Макара Тарасовича, — тихо, глуховатым голосом сказала Азарова.
«Значит, правда, была у них любовь», — подумал Петр Евдокимович, а вслух сказал:
— Приезжайте. Ко мне зайдете в гости. Я недалеко живу. От магазина прямо по улице…
— Я помню. Некогда часто ездила по району. На выборы к вам приезжала. На собрания. На похоронах Свидерского была. Жуткая сцена. Никогда не забуду… Может, подговорю Долгалева. Он машину найдет, так и приедем. Наверное, у вас еще какие дела есть. Вы ж куда-то шли…
— Дарья Трофимовна, а знаете что? Я шел в столовую. Она теперь зовется рестораном. Давайте зайдем, перекусим. И поговорим. Деньги у меня есть. Я еще ваш должник. За хромовые сапоги. Вы тогда звонили во все колокола и помогли. Сапоги долго носились…
— А вот этого я не помню. Как вы в лаптиках протопали и мокрые следы тянулись по полу — это стоит в глазах. А про сапоги забылось. Считайте, что и не было, — смеялась Азарова. — Идемте. Деньги у меня тоже есть.
В тихом, почти пустом зале ресторана они хорошо пообедали, даже выпили бутылку вина. На прощание трижды поцеловались.
— Петр Евдокимович, дорогой мой, один вам совет. Не думайте, что после выхода на пенсию жизнь кончается. Это не так. Мне уже две шестерки с хвостиком. Было бы лучше иметь две пятерки… Ну да что поделаешь. Вот посидели, поговорили, я почувствовала, будто помолодела на пять лет. Будете в райцентре, заходите, пожалуйста, — она назвала адрес и телефон. Мамута все записал.
— Зайду. Обязательно. Медку привезу. Я ж пчеловод. Хромовые сапоги стоили дорого. Одной бутылкой вина не отбояришься, — улыбался он.
Дарья Трофимовна весело засмеялась, и у Мамуты настроение резко поменялось. Он был рад, что случайно встретил эту умную, красивую — она и в старости была красивой, — женщину, которая большую часть своего века прожила солдатскою вдовой, без громких слов можно сказать: всю жизнь отдала людям.
И еще подумалось: до чего же короток век человека! Расцвел ты или не расцвел, пожил с радостью или мучился, хочешь стареть или не хочешь, все равно умрешь. Проснулась обида на свою Татьяну, теперь она все чаще укоряет Юзей, мол, жил со мной, а думал о другой. Столько лет молчала, а теперь, на старости, допекает.
![Леонид Леванович - Беседь течёт в океан[журнальный вариант]](https://cdn.my-library.info/books/no-image-mybooks-club.jpg)